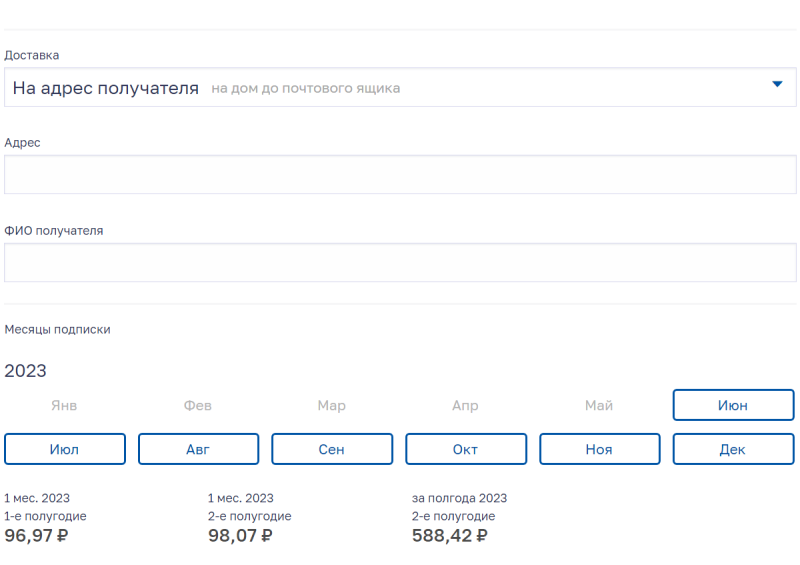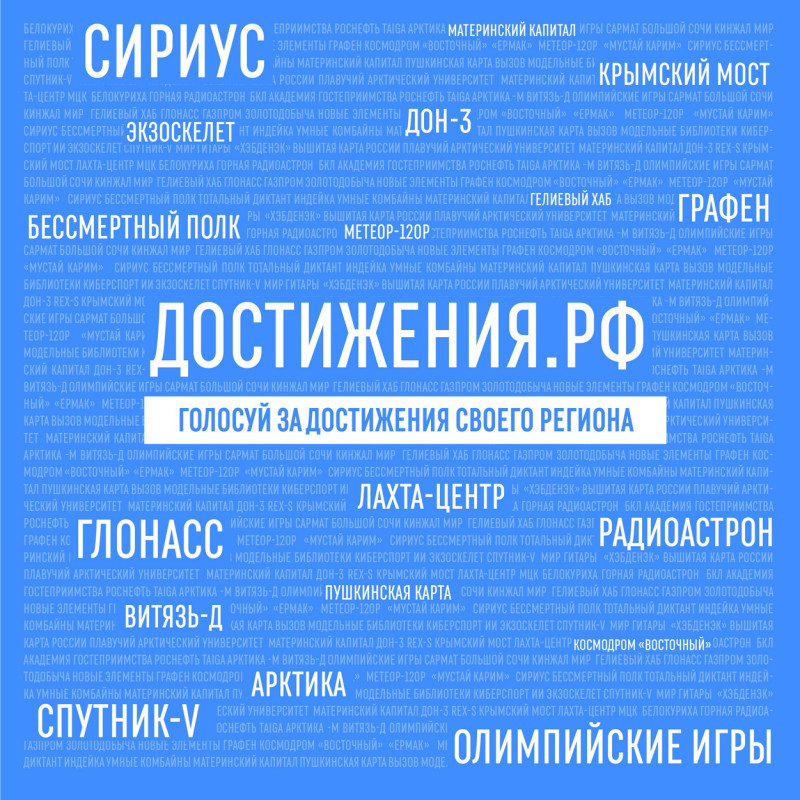Починок начинался с 12 дворов, в которых проживал 91 житель. Перед революцией 1917 года в деревне было уже 21 крестьянское хозяйство, в котором жили и работали 163 человека. На одно крестьянское хозяйство в деревне, в среднем, приходилась 21 десятина земли, это один из самых высоких показателей по Талоключинской волости. На одну семью, в среднем, приходилось три головы КРС. Из 30 крестьян, занимавшихся побочным промыслом, было 18 кузнецов!
Стоит добавить, что до революции и в первые годы Советской власти, Камышево была очень многолюдной деревней, так как по ее деревенской улице проходила очень оживленная дорога от Сырчан до Талого Ключа. Дорога эта шла по сосновому бору через мельницу Заманиха (стояла на речке Клюка) до сырчанских полей. В Талом Ключе, как известно, находилось волостное правление, и крестьяне сырчанских деревень очень часто пользовались этой дорогой, которую камышевцы называли "Родькина дорога". Каменное строение в Камышево было только одно, в последствии колхоз использовал его под склад. Было несколько двухэтажных деревянных домов еще дореволюционной постройки.
Перед Великой Отечественной войной в деревне появились семьи Храмцовых, Колчиных, Городиловых, Селюниных, Энтальцевых, Пушкаревых, Вылегжаниных, Буровых, Негодиных, Малковых, Щелчковых и Булатовых.
Самая большая убыль населения деревни пришлась на годы коллективизации, когда семьи уезжали, не желая вступать в колхозы, и на послевоенные годы, когда люди, не желая работать за трудодни, перебирались в промышленные города. В тяжелые годы Великой Отечественной войны в колхозе насчитывалось 33 крестьянских хозяйства, а вот в 1950 году всего 18 хозяйств и 73 жителя.
Колхозное время
Колхоз в предвоенные годы считался передовым. Интересно, что все работы выполнялись на основе индивидуальной сдельщины, то есть оплата трудодня была в этом колхозе не обезличенной. Эта форма оплаты труда являлось для того времени передовой. Благодаря этому, все уборочные кампании проводились раньше запланированных сроков.
До Великой Отечественной войны хорошо работали тракторист Суслов Алексей Петрович, колхозники Маркова, Четверикова Наталья Даниловна, Городилов Игнат Александрович. На высоком уровне была поставлена массово-политическая работа, чему в те годы уделялось повышенное внимание партийным руководством района.
Одним из первых председателей колхоза в тридцатые годы и в годы войны был Марков Кузьма Трофимович. Руководителем Марков был неплохим, но недолюбливали его колхозники за нелюдимый характер и за глаза его называли " кержак". К началу войны это был уже человек, переступивший полувековой возраст, но колхозники упорно твердили: "Отлынивает от фронта". Не любили простые люди председателя и за более высокий, чем у них, уровень жизни: "Он белый хлеб ест, а мы - травку".
И в послевоенные годы камышевцы от темна до темна работали в поле: хорошо организовывали обмолот и сдачу хлеба государству, проявляли и заботу об урожае будущего года, своевременно и качественно сеяли озимые. Работу облегчили и возвратившиеся с войны фронтовики. Председателем колхоза после возвращения с фронта был избран Буров Иван Григорьевич.
Успех в работе колхоза обеспечивался еще и тем, что сам председатель Буров, он же бригадир, ежедневно старательно трудился на колхозных полях. Не отставал от него и колхозный счетовод Суслов. Он трудился одновременно кузнецом, молотильщиком и машиновожатым на уборке урожая. Следуя примеру своих руководителей, добросовестно трудились на колхозных полях и другие колхозники. После расформирования колхоза в деревне Камышево его присоединили к крупному колхозу в деревне Талый Ключ.
Починок начинался с 12 дворов, в которых проживал 91 житель. Перед революцией 1917 года в деревне было уже 21 крестьянское хозяйство, в котором жили и работали 163 человека. На одно крестьянское хозяйство в деревне, в среднем, приходилась 21 десятина земли, это один из самых высоких показателей по Талоключинской волости. На одну семью, в среднем, приходилось три головы КРС. Из 30 крестьян, занимавшихся побочным промыслом, было 18 кузнецов!
Стоит добавить, что до революции и в первые годы Советской власти, Камышево была очень многолюдной деревней, так как по ее деревенской улице проходила очень оживленная дорога от Сырчан до Талого Ключа. Дорога эта шла по сосновому бору через мельницу Заманиха (стояла на речке Клюка) до сырчанских полей. В Талом Ключе, как известно, находилось волостное правление, и крестьяне сырчанских деревень очень часто пользовались этой дорогой, которую камышевцы называли "Родькина дорога". Каменное строение в Камышево было только одно, в последствии колхоз использовал его под склад. Было несколько двухэтажных деревянных домов еще дореволюционной постройки.
Перед Великой Отечественной войной в деревне появились семьи Храмцовых, Колчиных, Городиловых, Селюниных, Энтальцевых, Пушкаревых, Вылегжаниных, Буровых, Негодиных, Малковых, Щелчковых и Булатовых.
Самая большая убыль населения деревни пришлась на годы коллективизации, когда семьи уезжали, не желая вступать в колхозы, и на послевоенные годы, когда люди, не желая работать за трудодни, перебирались в промышленные города. В тяжелые годы Великой Отечественной войны в колхозе насчитывалось 33 крестьянских хозяйства, а вот в 1950 году всего 18 хозяйств и 73 жителя.
Колхозное время
Колхоз в предвоенные годы считался передовым. Интересно, что все работы выполнялись на основе индивидуальной сдельщины, то есть оплата трудодня была в этом колхозе не обезличенной. Эта форма оплаты труда являлось для того времени передовой. Благодаря этому, все уборочные кампании проводились раньше запланированных сроков.
До Великой Отечественной войны хорошо работали тракторист Суслов Алексей Петрович, колхозники Маркова, Четверикова Наталья Даниловна, Городилов Игнат Александрович. На высоком уровне была поставлена массово-политическая работа, чему в те годы уделялось повышенное внимание партийным руководством района.
Одним из первых председателей колхоза в тридцатые годы и в годы войны был Марков Кузьма Трофимович. Руководителем Марков был неплохим, но недолюбливали его колхозники за нелюдимый характер и за глаза его называли " кержак". К началу войны это был уже человек, переступивший полувековой возраст, но колхозники упорно твердили: "Отлынивает от фронта". Не любили простые люди председателя и за более высокий, чем у них, уровень жизни: "Он белый хлеб ест, а мы - травку".
И в послевоенные годы камышевцы от темна до темна работали в поле: хорошо организовывали обмолот и сдачу хлеба государству, проявляли и заботу об урожае будущего года, своевременно и качественно сеяли озимые. Работу облегчили и возвратившиеся с войны фронтовики. Председателем колхоза после возвращения с фронта был избран Буров Иван Григорьевич.
Успех в работе колхоза обеспечивался еще и тем, что сам председатель Буров, он же бригадир, ежедневно старательно трудился на колхозных полях. Не отставал от него и колхозный счетовод Суслов. Он трудился одновременно кузнецом, молотильщиком и машиновожатым на уборке урожая. Следуя примеру своих руководителей, добросовестно трудились на колхозных полях и другие колхозники. После расформирования колхоза в деревне Камышево его присоединили к крупному колхозу в деревне Талый Ключ.
 Из воспоминаний Сусловой (Тороповой) Юлии Алексеевны
Деревня Камышево состояла из одной улицы с односторонним расположением домов. Одворицы крестьян и баньки были как за домами, так и на противоположной стороне улицы. В деревне были колодцы, из-под земли били многочисленные ключи. В речке Ошланке в то время попадалась мелкая рыбешка-красноперка.
Годы войны запомнились страшным голодом. Несмотря на то, что колхозники держали скот на личных подворьях (коров, телят, овец) и выращивали на своих одворицах картофель, капусту, репу, помидоры, большая часть выращенного крестьянами уходила государству в качестве налогов. До сих пор перед глазами стоят уполномоченные по заготовкам. Обыскивали все амбары, даже заглядывали в сундуки.
Зачастую приходилось питаться травой, очень сильно в летнюю пору помогали и дары леса. Камышево располагалось рядом с лесом, и на многочисленных уже в ту пору делянках обильно росла малина. Деревенские детишки знали все ягодные места. Стоит еще сказать, что жизнь крестьян деревушки была тесно связана с лесом, который в полном смысле слова был для людей поильцем и кормильцем. Именно в Камышево проживал лесник Иван Кондратьевич Гущин, который зорко следил за порядком в сосновом бору. Порядок заготовки дров в ту пору был очень строгий, без лесника нельзя было даже сухое дерево в лесу срубить, и зачастую люди заготавливали для топки печей своих домов и банек хворост и сосновые сучья. Даже гороховое поле охранял от посягательств колхозников старичок с ружьем.
Основной кормилицей в ту пору для крестьян была корова, но и ее накормить было проблематично. С правой стороны сырчанской дороги было много болот со скудной травянистой растительностью, которую колхозники пытались заготовить на сено, но руководство колхоза конфисковывало и эту скудную траву.
В нашей семье было много детей, отец был на фронте, и встал вопрос об отдаче нас в Юртикский детский дом. Но мама Любовь Алексеевна сказала: "В детдом не отдам, если умрем - то все вместе". Годы были голодные, многим людям приходилось даже сбирать, чтобы не умереть с голода.
Положение камышевских крестьян в годы войны усугубилось, ко всему прочему, страшным пожаром не ферме, в результате которого погибло много коров. Всему виной стала девятнадцатилетняя девчонка из Мысов, работавшая на ферме. Неплотно закрыв топку, она убежала на обед в родную деревню, и занялся пожар. Чувствуя свою вину, молодая девушка покончила с собой. Одним словом, в годы войны хорошо и сытно жила только семья председателя камышевского колхоза, на их столе, как минимум, всегда был настоящий белый хлеб.
Наша семья все годы войны тоже голодала. Как награда за все военные тяготы, для нас стал приход отца с фронта. В тот день мы, голодные ребятишки, возвращались домой из Талоключинской школы и решили остановиться у моста через речку Ошланку. Тут и встретились с отцом - Алексеем Петровичем Сусловым. Отец насыпал в пилотку невиданных в деревне кедровых орехов и угостил детей, а по прибытии домой на всю деревенскую улицу разнесся запах тушенки, которую почему-то называли китайской.
Несмотря на голод, дети продолжали учиться и учились хорошо. В Талоключинской начальной школе нам помогали в этом замечательные учителя: Таисья Дмитриевна Широких, Валентина Михайловна Бурова и Валентина Ивановна Смирнова. Школа с чуткими, грамотными педагогами и замечательным яблоневым садом навсегда осталась в сердцах многих деревенских детей. Учителя, зачастую не доедая сами, подкармливали деревенских детей картофелем, особенно тогда, когда чувствовали, что ребенок близок к голодному обмороку. Зачастую они помогали детям с нехитрой обувью перед осенней распутицей, потому что многие приходили в школу с босыми ногами. Да и сами дети старались не подводить своих учителей. Председатель колхоза в военные годы Марков Василий Трофимович часто упрекал колхозников в том, что они старались дать своим детям образование: "Зачем им учеба, в колхозе всем работы хватит".
Но, не смотря на трудности, дети стремились к знаниям. Закончив талоключинскую начальную школу, продолжали учебу в Юртикской семилетней школе, а самые талантливые заканчивали среднее образование в Медведской школе.
В 50-е годы директором Медведской школы работал эвакуированный из Украины Зайко. Когда меня, деревенскую девочку в лаптях, увидела дочь директора школы, то с удивлением воскликнула: "Папа, посмотри, у девочки на ногах корзинки надеты!" Вот и подумайте, какой уровень жизни был у наших колхозников и жителей братской в то время Украины. Сложной, а порой и невыносимой была жизнь в те годы, многие камышевские матери выменяли свои девичьи наряды "за Вяткой", меняя их в селе Петровском за кусок хлеба или ведро картошки. Может быть, благодаря как раз этим "девичьим нарядам" матерей получили образование и нашли свое место в жизни многие крестьянские дети.
Один из моих братьев в последствии работал секретарем Нолинской комсомольской организации. Брат Леонид, закончив Свердловский мединститут, работал рентгенологом в Нолинской ЦРБ. А еще один уроженец деревни - Корнаухов Евгений Михайлович - стал деканом одного из кировских ВУЗов.
Большой проблемой для детей был и сам поход в школу. Несмотря на то, что Талый ключ был виден из окон жителей Камышево, на пути детей вставал неудобный переход через речку Ошланку, где детям приходилось переправляться по скользким жердочкам. Был случай, что в летнюю пору в речке утонул малолетний деревенский паренек Миша Пушкарев.
Да и работы в поле для детей были не менее опасны. Однажды летом на их глазах волк утащил из пасшегося стада овцу.
В то время начинали уделять внимание и дошкольникам - один из камышевских домов был выделен под детский сад. Правда, это был еще не тот детсад, к которому мы все привыкли. Роль воспитателей выполняли простые колхозницы, которые по очереди присматривали за детьми, пока их матери трудились в поле и на ферме.
Многие жители Камышево еще помнили сытные и благополучные времена - до коллективизации. От нее пострадало много крепких крестьянских хозяйств, причисленных к кулакам. Люди не хотели вступать в колхозы, и жизнь этих семей портили разными способами. Когда становилось совсем невмочь, семьи добровольно съезжали с насиженных мест.
Так уехала из деревни семья Масленниковых. Люди собрались вечером за обеденным столом, а ночью покинули родную деревню. Односельчане обнаружили побег семьи только днем, когда в хлевах стала реветь голодная скотина. Дом, надворные постройки - все осталось в колхозе. Потомки Масленниковых проживали впоследствии в деревне Баимово.
Поля в Камышево были довольно плодородные, летом и зимой они удобрялись, с ферм и с конного двора регулярно вывозился навоз. За лошадьми в деревне ухаживала Кассихина Анна Ивановна, или как ее называли из-за физического недостатка Нюра Кривая. В деревне было две пасеки, одна колхозная, а вторую пасеку держал житель деревни Алексей Вылегжанин. Гордостью камышинцев была маслобойка, находившаяся напротив фермы.
Не сохранились в памяти людей имена работавших там умельцев, но многие запомнили вкус отличного сыра.
Дети, как и в других деревнях, были первыми помощниками взрослых. Их, работавших в колхозе на сенокосе, всегда угощали гороховым киселем и смородиновым чаем, а когда в конце 50-х годов жизнь начала постепенно налаживаться, появился в меню и мясной суп. Тогда на сенокосе уже можно было услышать и песни, в том числе любимого среди крестьян "Удалого Хасбулата". Помогали дети не только на полях и фермах, многие из них выполняли роль почтальонов, разнося газеты из Юртика по соседним деревушкам.
Был в деревне Камышево и хороший клуб. Душой клуба была его заведующая Мария Гущина. Очень хорошо играл на гармони ее муж Николай Гущин. Все мероприятия в клубе проходили весело и интересно, зачастую концерты помогали готовить учителя талоключинской школы. А сам клуб стоял на краю деревни, ближе к дороге на Нему.
После войны председателем колхоза работал участник двух войн, мой отец Суслов Алексей Петрович. Он имел золотые руки: работал кузнецом, плел лапти, мог принять роды у коров. Мне навсегда запомнился трагический эпизод, связанный с отцом. Однажды, работая в поле на двух лошадях, отец был атакован роем пчел. Не помогло и окунание с головой в речку Ошланку. Отца довезли до Юртикского медпункта, где ему в буквальном смысле слова спасла жизнь фельдшер Валентина Сергеевна Плаксина.
Фельдшерам тех лет стоит сказать отдельные слова благодарности. Не имея зачастую времени и возможности выбраться в город, колхозники возлагали на них большие надежды, и люди в белых халатах помогали крестьянам как могли. Случались, конечно, и трагические случаи. Не удавалось долгое время искоренить и детскую смертность, так в Камышево совсем молодым мальчиком умер от ангины Колчин Геннадий.
Люди, жившие в военное и послевоенное время, были уже менее религиозными, чем их отцы и матери. Особенно это касалось мужчин, часто заставлявших своих жен прятать иконы в сундуки, но при этом они не прочь были праздновать и по-своему отметить Пасху и Рождество, так как знали, что их односельчанин Михаил-чеботарь постарается нагнать к празднику хорошего перегона. Все религиозные и советские праздники, как правило, отмечались в большом двухэтажном доме Четверикова Александра Прокопьевича. Излишняя религиозность и вера в приметы зачастую играла с людьми и злую шутку. Так, многие камышевцы помнят загадочный случай, произошедший с Натальей Прокопьевной Четвериковой. Старушка сидела у окна, когда в него постучал клювом голубь. Посчитав это знаком свыше, старая женщина скончалась в эту же минуту.
После войны постепенно жизнь улучшалась, стали приходить с фронта мужчины. Правда, возвращались они зачастую больные и израненные. Многие из фронтовиков ушли из жизни, недолго проработав на благо колхоза и своих семей. Так, вскоре после войны умерли фронтовики Григорий Колчин и Александр Булатов.
В 50-е годы представители колхоза Камышевский - Суслов Алексей Петрович и доярка Сомова Нина - стали участниками выставки ВДНХ в Москве, что еще раз доказывает - работать крестьяне умели.
После укрупнения колхозов камышинцев объединили с колхозом "Талоключинский", но население деревни уже начало редеть. Познавшие лихие годы коллективизации, голодные военные и послевоенные годы, колхозники начали покидать родные места. Новые адреса переселения камышинских семей были однотипными с другими деревнями Юртикского сельсовета - маленькие промышленные городки Свердловской и Пермской областей, часть семей переселялась в Талый Ключ, в Медведок или в Сырчаны.
Александр Самыгин
Из воспоминаний Сусловой (Тороповой) Юлии Алексеевны
Деревня Камышево состояла из одной улицы с односторонним расположением домов. Одворицы крестьян и баньки были как за домами, так и на противоположной стороне улицы. В деревне были колодцы, из-под земли били многочисленные ключи. В речке Ошланке в то время попадалась мелкая рыбешка-красноперка.
Годы войны запомнились страшным голодом. Несмотря на то, что колхозники держали скот на личных подворьях (коров, телят, овец) и выращивали на своих одворицах картофель, капусту, репу, помидоры, большая часть выращенного крестьянами уходила государству в качестве налогов. До сих пор перед глазами стоят уполномоченные по заготовкам. Обыскивали все амбары, даже заглядывали в сундуки.
Зачастую приходилось питаться травой, очень сильно в летнюю пору помогали и дары леса. Камышево располагалось рядом с лесом, и на многочисленных уже в ту пору делянках обильно росла малина. Деревенские детишки знали все ягодные места. Стоит еще сказать, что жизнь крестьян деревушки была тесно связана с лесом, который в полном смысле слова был для людей поильцем и кормильцем. Именно в Камышево проживал лесник Иван Кондратьевич Гущин, который зорко следил за порядком в сосновом бору. Порядок заготовки дров в ту пору был очень строгий, без лесника нельзя было даже сухое дерево в лесу срубить, и зачастую люди заготавливали для топки печей своих домов и банек хворост и сосновые сучья. Даже гороховое поле охранял от посягательств колхозников старичок с ружьем.
Основной кормилицей в ту пору для крестьян была корова, но и ее накормить было проблематично. С правой стороны сырчанской дороги было много болот со скудной травянистой растительностью, которую колхозники пытались заготовить на сено, но руководство колхоза конфисковывало и эту скудную траву.
В нашей семье было много детей, отец был на фронте, и встал вопрос об отдаче нас в Юртикский детский дом. Но мама Любовь Алексеевна сказала: "В детдом не отдам, если умрем - то все вместе". Годы были голодные, многим людям приходилось даже сбирать, чтобы не умереть с голода.
Положение камышевских крестьян в годы войны усугубилось, ко всему прочему, страшным пожаром не ферме, в результате которого погибло много коров. Всему виной стала девятнадцатилетняя девчонка из Мысов, работавшая на ферме. Неплотно закрыв топку, она убежала на обед в родную деревню, и занялся пожар. Чувствуя свою вину, молодая девушка покончила с собой. Одним словом, в годы войны хорошо и сытно жила только семья председателя камышевского колхоза, на их столе, как минимум, всегда был настоящий белый хлеб.
Наша семья все годы войны тоже голодала. Как награда за все военные тяготы, для нас стал приход отца с фронта. В тот день мы, голодные ребятишки, возвращались домой из Талоключинской школы и решили остановиться у моста через речку Ошланку. Тут и встретились с отцом - Алексеем Петровичем Сусловым. Отец насыпал в пилотку невиданных в деревне кедровых орехов и угостил детей, а по прибытии домой на всю деревенскую улицу разнесся запах тушенки, которую почему-то называли китайской.
Несмотря на голод, дети продолжали учиться и учились хорошо. В Талоключинской начальной школе нам помогали в этом замечательные учителя: Таисья Дмитриевна Широких, Валентина Михайловна Бурова и Валентина Ивановна Смирнова. Школа с чуткими, грамотными педагогами и замечательным яблоневым садом навсегда осталась в сердцах многих деревенских детей. Учителя, зачастую не доедая сами, подкармливали деревенских детей картофелем, особенно тогда, когда чувствовали, что ребенок близок к голодному обмороку. Зачастую они помогали детям с нехитрой обувью перед осенней распутицей, потому что многие приходили в школу с босыми ногами. Да и сами дети старались не подводить своих учителей. Председатель колхоза в военные годы Марков Василий Трофимович часто упрекал колхозников в том, что они старались дать своим детям образование: "Зачем им учеба, в колхозе всем работы хватит".
Но, не смотря на трудности, дети стремились к знаниям. Закончив талоключинскую начальную школу, продолжали учебу в Юртикской семилетней школе, а самые талантливые заканчивали среднее образование в Медведской школе.
В 50-е годы директором Медведской школы работал эвакуированный из Украины Зайко. Когда меня, деревенскую девочку в лаптях, увидела дочь директора школы, то с удивлением воскликнула: "Папа, посмотри, у девочки на ногах корзинки надеты!" Вот и подумайте, какой уровень жизни был у наших колхозников и жителей братской в то время Украины. Сложной, а порой и невыносимой была жизнь в те годы, многие камышевские матери выменяли свои девичьи наряды "за Вяткой", меняя их в селе Петровском за кусок хлеба или ведро картошки. Может быть, благодаря как раз этим "девичьим нарядам" матерей получили образование и нашли свое место в жизни многие крестьянские дети.
Один из моих братьев в последствии работал секретарем Нолинской комсомольской организации. Брат Леонид, закончив Свердловский мединститут, работал рентгенологом в Нолинской ЦРБ. А еще один уроженец деревни - Корнаухов Евгений Михайлович - стал деканом одного из кировских ВУЗов.
Большой проблемой для детей был и сам поход в школу. Несмотря на то, что Талый ключ был виден из окон жителей Камышево, на пути детей вставал неудобный переход через речку Ошланку, где детям приходилось переправляться по скользким жердочкам. Был случай, что в летнюю пору в речке утонул малолетний деревенский паренек Миша Пушкарев.
Да и работы в поле для детей были не менее опасны. Однажды летом на их глазах волк утащил из пасшегося стада овцу.
В то время начинали уделять внимание и дошкольникам - один из камышевских домов был выделен под детский сад. Правда, это был еще не тот детсад, к которому мы все привыкли. Роль воспитателей выполняли простые колхозницы, которые по очереди присматривали за детьми, пока их матери трудились в поле и на ферме.
Многие жители Камышево еще помнили сытные и благополучные времена - до коллективизации. От нее пострадало много крепких крестьянских хозяйств, причисленных к кулакам. Люди не хотели вступать в колхозы, и жизнь этих семей портили разными способами. Когда становилось совсем невмочь, семьи добровольно съезжали с насиженных мест.
Так уехала из деревни семья Масленниковых. Люди собрались вечером за обеденным столом, а ночью покинули родную деревню. Односельчане обнаружили побег семьи только днем, когда в хлевах стала реветь голодная скотина. Дом, надворные постройки - все осталось в колхозе. Потомки Масленниковых проживали впоследствии в деревне Баимово.
Поля в Камышево были довольно плодородные, летом и зимой они удобрялись, с ферм и с конного двора регулярно вывозился навоз. За лошадьми в деревне ухаживала Кассихина Анна Ивановна, или как ее называли из-за физического недостатка Нюра Кривая. В деревне было две пасеки, одна колхозная, а вторую пасеку держал житель деревни Алексей Вылегжанин. Гордостью камышинцев была маслобойка, находившаяся напротив фермы.
Не сохранились в памяти людей имена работавших там умельцев, но многие запомнили вкус отличного сыра.
Дети, как и в других деревнях, были первыми помощниками взрослых. Их, работавших в колхозе на сенокосе, всегда угощали гороховым киселем и смородиновым чаем, а когда в конце 50-х годов жизнь начала постепенно налаживаться, появился в меню и мясной суп. Тогда на сенокосе уже можно было услышать и песни, в том числе любимого среди крестьян "Удалого Хасбулата". Помогали дети не только на полях и фермах, многие из них выполняли роль почтальонов, разнося газеты из Юртика по соседним деревушкам.
Был в деревне Камышево и хороший клуб. Душой клуба была его заведующая Мария Гущина. Очень хорошо играл на гармони ее муж Николай Гущин. Все мероприятия в клубе проходили весело и интересно, зачастую концерты помогали готовить учителя талоключинской школы. А сам клуб стоял на краю деревни, ближе к дороге на Нему.
После войны председателем колхоза работал участник двух войн, мой отец Суслов Алексей Петрович. Он имел золотые руки: работал кузнецом, плел лапти, мог принять роды у коров. Мне навсегда запомнился трагический эпизод, связанный с отцом. Однажды, работая в поле на двух лошадях, отец был атакован роем пчел. Не помогло и окунание с головой в речку Ошланку. Отца довезли до Юртикского медпункта, где ему в буквальном смысле слова спасла жизнь фельдшер Валентина Сергеевна Плаксина.
Фельдшерам тех лет стоит сказать отдельные слова благодарности. Не имея зачастую времени и возможности выбраться в город, колхозники возлагали на них большие надежды, и люди в белых халатах помогали крестьянам как могли. Случались, конечно, и трагические случаи. Не удавалось долгое время искоренить и детскую смертность, так в Камышево совсем молодым мальчиком умер от ангины Колчин Геннадий.
Люди, жившие в военное и послевоенное время, были уже менее религиозными, чем их отцы и матери. Особенно это касалось мужчин, часто заставлявших своих жен прятать иконы в сундуки, но при этом они не прочь были праздновать и по-своему отметить Пасху и Рождество, так как знали, что их односельчанин Михаил-чеботарь постарается нагнать к празднику хорошего перегона. Все религиозные и советские праздники, как правило, отмечались в большом двухэтажном доме Четверикова Александра Прокопьевича. Излишняя религиозность и вера в приметы зачастую играла с людьми и злую шутку. Так, многие камышевцы помнят загадочный случай, произошедший с Натальей Прокопьевной Четвериковой. Старушка сидела у окна, когда в него постучал клювом голубь. Посчитав это знаком свыше, старая женщина скончалась в эту же минуту.
После войны постепенно жизнь улучшалась, стали приходить с фронта мужчины. Правда, возвращались они зачастую больные и израненные. Многие из фронтовиков ушли из жизни, недолго проработав на благо колхоза и своих семей. Так, вскоре после войны умерли фронтовики Григорий Колчин и Александр Булатов.
В 50-е годы представители колхоза Камышевский - Суслов Алексей Петрович и доярка Сомова Нина - стали участниками выставки ВДНХ в Москве, что еще раз доказывает - работать крестьяне умели.
После укрупнения колхозов камышинцев объединили с колхозом "Талоключинский", но население деревни уже начало редеть. Познавшие лихие годы коллективизации, голодные военные и послевоенные годы, колхозники начали покидать родные места. Новые адреса переселения камышинских семей были однотипными с другими деревнями Юртикского сельсовета - маленькие промышленные городки Свердловской и Пермской областей, часть семей переселялась в Талый Ключ, в Медведок или в Сырчаны.
Александр Самыгин